Сайт відділу наукової інформації та бібліографії є частиною бібліотечного порталу
- Головна
- Про відділ
-
Бібліографічний всеобуч
- Бібліографічна робота бібліотек: на допомогу фахівцю
- Літературно-бібліографічні студії
- Популяризація книги та читання
- Бібліографічний запис: нові вимоги стандарту. Аналітичний бібліографічний опис
- Професія - бібліограф
- Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці
- Хавкина Л.Б. Таблица авторских знаков двоичных для латиницы
- Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні)
- Біографічна стаття: загальні рекомендації та схеми
- Казкотерапія для дітей та дорослих: методичні матеріали в допомогу бібліотекарям
- «Болючий дух лікує піснеспів...» Бібліотерапія у практиці роботи херсонського лікаря-психотерапевта Олександра Бутузова
- Запитай у бібліографа
- Наші публікації: ЕБ
-
Книжковий майданчик
- Листи письменників до херсонців
- Наші читачі рекомендують
- Літературне асорті
- Бібліографічні огляди
- Літературне дежавю
- Віртуальні виставки
- Книги-ювіляри
- Афоризми та крилаті вислови про бібліотеку та бібліографію
- Афоризми та крилаті вислови про книгу
- Галерея української афористики
- Міський клуб любителів книги «Кобзар»
- Вірші про книгу
- Вірші про бібліотеку та бібліографію
- Народна мудрість: прислів'я та приказки про книгу
- Загадки про книгу
- Портретна галерея письменників: мистецтво через обличчя слова
- Людина і книга: веселі картинки
- Билиці з життя херсонських книжників
- Веселинки: веселі історії про книгу та книголюбів
- Цікаве з життя книг
- Перегортаючи пожовклі сторінки...
- Видатні мовознавці
- Творчість наших читачів
Випадкове знайомство

19.02.2026
Світ на смак: бесіда про традиційні кухні в колі розмовного клубу
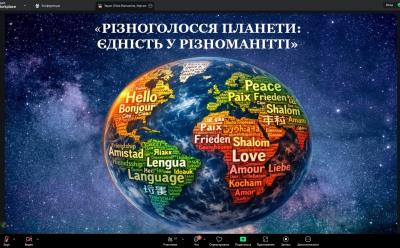
18.02.2026
«Різноголосся планети: єдність у різноманітті»: святковий онлайн-захід до Міжнародного дня рідної мови
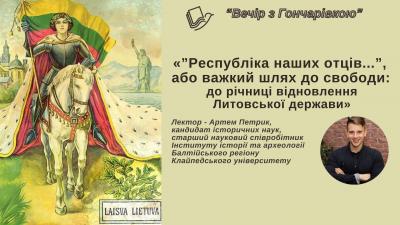
17.02.2026
«Республіка наших отців…», або Важкий шлях до свободи: до річниці відновлення Литовської держави

16.02.2026
Борис Мозолевський – мисливець за скарбами степу
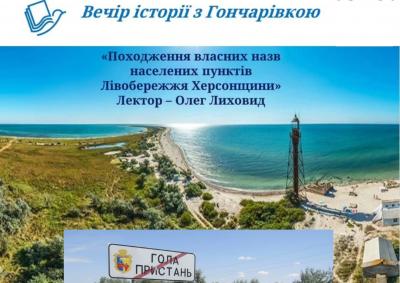
13.02.2026
«Гей, чи далеко до Келегей?»: про походження власних назв населених пунктів Лівобережжя Херсонщини
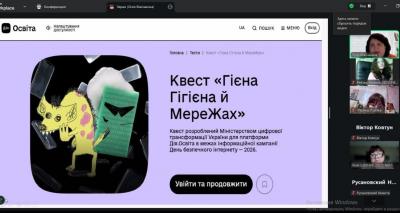
11.02.2026
«Гієна Гігієна й МереЖах»: День безпечного інтернету для херсонських школярів
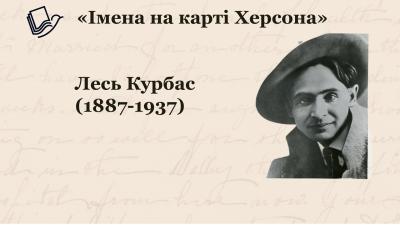
09.02.2026
Народжений у лютому: Лесь Курбас – ім’я, яке повертається на карту і в серця

07.02.2026
У світлі спогадів про родину Світличних
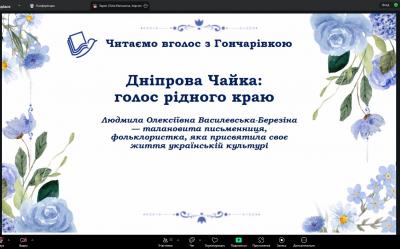
04.02.2026
Дніпрова Чайка: читаємо вголос із Гончарівкою
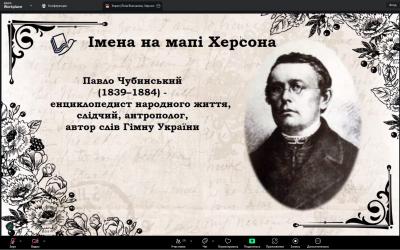
02.02.2026
Імена на мапі Херсона: Павло Чубинський

Коментарі